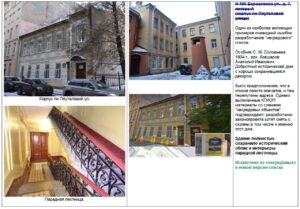После революции 1917 года не только Эрмитаж остался без своих важнейших шедевров. В поисках денег советская власть продавала экспонаты из сотен национализированных дворцов, особняков и усадеб.
О том, как это происходило, рассказывает книга «Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ» — с редкими иллюстрациями и архивными материалами. Ее подготовили Наталия Семенова, специалист по истории коллекционирования и автор бестселлеров о собраниях Щукина и братьев Морозовых, и куратор и искусствовед Николас Ильин.
С разрешения издательства «Слово» «Бумага» публикует отрывок из главы «Дворцы-музеи».
Три первых послереволюционных года стали для России настоящим музейным бумом. Ни раньше, ни позже в стране не открывалось такого невероятного количества музеев. Сотни дворцов, особняков и усадеб были национализированы. Искусствоведы и ученые строили самые невероятные планы относительно преобразования и использования уникальных памятников культуры. Практически все дворцы, ранее принадлежавшие Романовым в Петрограде и его пригородах, превратились в историко-бытовые музеи. В Москве на основе наиболее интересных художественных коллекций, находившихся в частных особняках, была создана сеть так называемых «пролетарских музеев». Но для функционирования государственной машины необходимы были деньги, а многие миллионы рублей, которые принесло изъятие церковных ценностей, власть уже не удовлетворяли.
С января 1922 года во всех музеях приступили к работе научно-художественные экспертные комиссии. Им предстояло определить в собственных коллекциях предметы, «не имеющие музейного значения», а полученные от их продажи средства направить на борьбу с голодом. В результате из пригородных дворцов было изъято золотых и серебряных предметов: из Гатчины — 1774 (22 пуда 33 фунта 15 золотников серебра и 17 фунтов 56 золотников золота), 55 пудов 24 фунта 74 золотника серебра и 5 фунтов золота — из Детского Села. Прежние инструкции Наркомпроса были забыты, и уже в июне 1922 года Совнарком принял решение об изъятии «экспонатов высокоматериальной ценности» в Гохран.

Это был первый серьезный удар по музейным фондам. Даже несмотря на то, что часть денежных средств от будущих продаж предполагалось передавать непосредственно музеям. Одним из первых опасность создавшейся ситуации понял директор Эрмитажа С. Н. Тройницкий. «Вполне сознавая всю необходимость в данный тяжелый период использовать все средства, которыми обладает государство, считаю себя обязанным <…> высказать свое мнение о нерациональности применения к музеям тех же методов обследования, которые применяются к церквам и другим хранилищам немузейного типа. <…> Ежели государство в настоящий момент поставлено в грустную необходимость использовать ценности своих музеев, то оно должно и может их использовать с наибольшей выгодой именно, как музейные объекты», — писал он.
Однако деньги требовались безотлагательно. Видя, что над музеями нависла реальная угроза, Тройницкий попытался смягчить удар. В письме заведующему Ленинградским отделением Главнауки М. П. Кристи он предлагал: «В Эрмитаже, кладовых Зимнего дворца и других музеях находится очень значительное количество дублетов прикладного искусства, которые при планомерном их использовании могли бы дать суммы, достаточные для содержания и поддержания важнейших из наших музеев. Качественно этот фонд распадается на две категории, первая из них первоклассного значения должна быть реализована за границей, вторая должна быть использована на внутреннем рынке. Важным фактом для первой категории является то обстоятельство, что, с одной стороны, такого рода предметы почти совершенно отсутствуют в большинстве иностранных музеев, а с другой стороны, что мы являемся исключительными обладателями очень значительного их количества и таким образом можем быть хозяевами сбыта, т. к. вне России приобрести их негде…»
Но к резонным советам специалистов и знатоков никто не собирался прислушиваться. Музейной конференции, прошедшей в конце июня 1922 года, защитить музейные собрания не удалось. И, вопреки декларациям о сохранении историко-культурного наследия, на пятом году советской власти «под изъятия» подпали крупнейшие российские государственные собрания.
1922 год был чрезвычайно тяжелым. Суммы, выделявшиеся музеям из госбюджета, были сокращены в несколько раз. Денег не хватало ни на охрану, ни на дрова, ни на починку крыши. Особенно трудно приходилось дворцам и усадьбам, которые раньше обслуживались огромным штатом прислуги. В декабре 1922 года X Всероссийский съезд Советов решил «в связи с общим оскудением страны <…> сузить размах просветительской работы». Было создано новое подразделение — Главнаука, в ведении которого отныне находились все музейные учреждения. Ряд музеев было решено передать в другие ведомства, некоторые превратить в филиалы центральных музеев, а часть вообще ликвидировать. В апреле 1923 года подведомственным Наркомпросу учреждениям пришлось предоставить право иметь «специальные средства» для обеспечения «государственной охраны культурных ценностей РСФСР». В то же время явная «перегруженность» обеих столиц художественными ценностями усиливала желание «ввиду стесненности финансового положения государства, прибегнуть к утилизации (т. е. к продаже. — авт.) предметов, не имеющих музейного значения и эксплуатации имеющихся <…> свободных помещений».
Главную роль в начавшемся переделе музейной собственности сыграло специально созданное в начале 1924 года Бюро (Комиссия) по учету и реализации Госфондов. Основной ее задачей было проводить учет и реализацию предметов на внутреннем рынке, а в 1928–1929 годах — на внешнем (через контору «Антиквариат») рынке имуществ, находящихся во дворцах-музеях, в усадьбах, церквах, монастырях и других исторических памятниках, — имущества, не имеющего музейного значения, не входящего в состав коллекций данных учреждений и не относящегося к их музейному оборудованию.
Первой акцией вновь образованной структуры была устроенная в 1924–1925 годах в Зимнем дворце распродажа предметов, поступивших из дворцов и особняков в Госфонд. Отсутствие отлаженного механизма торговли произведениями искусства поначалу заставляло сотрудников Комиссии обращаться к руководству с просьбами дать «товарищеские указания», например, по вопросу о «допустимости с политической стороны организации продажи» непосредственно во дворце, которую заграничная пресса могла использовать «как материал для ряда всевозможных инсинуаций по отношению к СССР». Однако эта проблема была быстро решена, а распродажа кладовых Зимнего дворца помогла выработать наиболее эффективные способы реализации «Госфондов немузейного значения».
Спрос на антиквариат рождал предложение. В 1925 году была предпринята мощная атака на музеи, в первую очередь на ленинградские: именно в северной столице находились главные художественные сокровища страны. Следствием этой кампании стал огромный поток музейных экспонатов, хлынувший в Госфонд; в их числе были предметы из Эрмитажа, из ликвидированных к тому времени Юсуповского и Шуваловского дворцов. Но основной удар пришлось принять на себя пригородным дворцам, которые вообще рассматривались в качестве «валютного резерва» страны: за один только 1926 год они вынуждены были выделить для продажи почти 150 тыс. своих экспонатов. Однако Комиссия Госфондов этим не ограничилась и санкционировала также выдачу коллекций большинства музеев Московской губернии и провинциальной России. Исключения не было сделано и для Государственного музейного фонда, основными задачами которого были учет, хранение и распределение между музеями национализированных художественных коллекций: большая часть поступивших в Фонд предметов также была направлена на реализацию. С 1925 по 1929 год из Ленинградского отделения ГМФ было передано в музеи 124 192 предмета, а Комиссии Госфондов и «Антиквариату» — 51 271 предмет.
Уже осенью 1926 года стала обсуждаться возможность реализации музейных предметов на западноевропейском антикварном рынке. Советские чиновники попытались установить прямые контакты с наиболее влиятельными западными торговцами искусством. Почва зондировалась в Берлине, Лондоне и Париже.

Во Франции основная ставка делалась на Жермена Зелигмана — сына Жака Зелигмана, имевшего тесные связи с Россией еще до Первой мировой войны. Однако, узнав о серьезных намерениях Советов продать часть художественных сокровищ, владелец роскошной галереи на Вандомской площади, имевший за океаном таких солидных клиентов, как Морган и Херст, немедленно отправиться в опасное путешествие в Советскую Россию побоялся. Сочтя выпавшую на его долю миссию делом чуть ли не государственной важности, он известил о своих переговорах Министерство иностранных дел. На набережной Орсе были хорошо осведомлены о том, что в России находится одно из лучших за пределами Франции собраний французского искусства XVIII века, и решение о поездке Зелигмана, приобретавшей чуть ли не официальный характер, было принято моментально.
Надежды, возлагавшиеся на его миссию, поначалу не оправдались: Зелигману и его помощнику пытались навязать письменные и туалетные приборы, серебряные и позолоченные табакерки, а также прочие предметы «личного характера». «Настоящие произведения искусства» из так называемых «резервов» им были показаны только тогда, когда французы заявили, что считают свое дальнейшее пребывание в Москве бессмысленным. Судя по оставленному Зелигманом описанию, их допустили в хранилище Гохрана, в необъятных недрах которого они провели несколько дней. «Одна из комнат представляла собой совершенно необычное зрелище. Это был просторный зал, похожий на огромную пещеру, со сводами из золоченой бронзы, золота и хрусталя. Бесчисленное количество канделябров и люстр — маленьких, больших и огромных, стояли на полу и на столах; они свисали с потолка словно сталактиты и сталагмиты. <…> Столь же великолепны были столы, на которых они возвышались — украшенные накладками из золоченой бронзы, со столешницами из мрамора, оникса, агата или столь любимого русскими ярко-зеленого малахита».
Зелигман покинул Москву осенью 1927 года, заявив, что надеяться на дальнейшее продолжение деловых отношений бессмысленно, если ничего из виденного ими не будет предложено к продаже. И хотя в советском торгпредстве сделали вид, что забыли о визите французского антиквара, на самом же деле проблема продажи антиквариата стояла как никогда остро. Дефицит бюджета принял катастрофический характер, и в самом начале 1928 года Совнарком вынужден был принять секретное постановление об усилении экспорта предметов старины и искусства.
Переговоры с Зелигманом возобновились уже весной. На продажу во Франции предлагались вещи из собрания Эрмитажа и ленинградских дворцов-музеев, не говоря уже о сокровищах Гохрана. Москва согласилась со всеми условиями антиквара, и стороны даже перешли к обсуждению способа перевозки товара. Оставалось лишь получить одобрение правительства Франции.
Но во французском Министерстве иностранных дел Зелигману объяснили, что предаукционная выставка, которая, несомненно, станет сенсацией, привлечет тысячи посетителей. Это, естественно, активизирует бывших собственников, отказывающихся признать легальность национализации. Большая часть тех, кто покинул Советскую Россию, осела именно во Франции. К концу 1920-х число русских иммигрантов приближалось здесь к полумиллиону. Учитывая бесчисленное количество исков, которые неизбежно были бы адресованы советскому правительству, можно было ожидать серьезных дипломатических и юридических проблем. Поэтому ради спокойствия внутри страны французское правительство решило от аукционов отказаться.
Если Франция предпочла избежать «острой ситуации», то Германия отнеслась к сотрудничеству с Советами совершенно иначе. В конце 1928 года в Берлине в помещении аукционного дома фирмы «Рудольф Лепке» на Потсдамерштрассе, 122 состоялись первые публичные торги. Широкий экспорт антикварных вещей не отменял, впрочем, продаж, производившихся «на месте иностранцам за валюту». В Ленинградское отделение Главнауки регулярно приходили письма следующего содержания: «<…> Главнаука разрешает допустить гражданина Патриджа в Хранилище Музейного фонда и Хранилища музеев и дворцов для отбора вещей немузейного значения. В случае отбора им большого количества предметов, сообщите телеграфно для командирования в Ленинград представителя Главнауки на предмет окончательной экспертизы отобранных вещей и их оценки». Или: «Главнаука Наркомпроса просит оказать содействие приехавшим из Вены представителям Венского Государственного Общества „Доротеум“ товарищам Оскару Бам<у> и доктору Лео Ледерер<у> в смысле осмотра ими Госфондов, имеющихся в вашем распоряжении».

Произведения искусства распродавались в таких огромных количествах, что цены на антиквариат буквально обвалились. Если новая фарфоровая чашка в советском магазине стоила около четырех рублей, то старинную с рисунком оценивали не дороже двух. «Поверхностно набросанный пейзаж какого-нибудь небольшого современного мастера» стоил около тридцати рублей, а старинная картина «приличного выполнения» — восемь–десять.
На темпы распродаж существенно влияли политические события внутри страны. После XIII съезда РКП(б), заявившего о необходимости расширения и углубления массовых форм коммунистического просвещения, искусство стало рассматриваться не иначе как отражение классовой борьбы. В свете «вульгарно-социологического метода» исторический ансамбль дворцов вместе с их содержимым больше никого не интересовал; надобность сохранять «пережитки буржуазного сознания» исчезла, и спустя некоторое время дворцы начали методично закрывать.
Экспозиции тех дворцов-музеев, которые не были приспособлены под дома отдыха или санатории, пришлось существенно переделать. Экскурсантам, мечтавшим о лучшей жизни и страстно желавшим узнать, как жили цари, показывали «тяжелый быт крепостных». Любое отступление от идеологической программы порицалось. Так, создателей экспозиции в Павловске Комиссия Главнауки обвинила в чрезмерном увлечении историзмом и малом учете запросов дня сегодняшнего. «Нам, современникам, до Марии Федоровны как таковой столь же мало дела, как до прошлогоднего снега. Нам неизмеримо ценнее было бы видеть в Павловске, как жила дворцовая челядь, прислуга, охрана. <…> Быт должен быть поставлен во главу угла. „А где пороли крепостных?“ — вопрос, который вполне естественно вырывается у экскурсантов и посетителей». Очевидно, чтобы удовлетворить любопытство последних, в бывшей шереметевской усадьбе Останкино соорудили избу, где выставили орудия пыток и поместили настоящий трактор.
Советские музеи должны были убеждать посетителей в том, «что монархи — статисты истории», а не рассказывать о личностях, будь то строитель дворца или его владелец, а тем более не насаждать «культ императора». С этой целью Петергоф, например, было предложено превратить в «один большой социологический музей, который должен в фокусе дворцового строительства собрать и отразить историю классовой борьбы в России на протяжении 200 лет».
Любое стремление хранителей использовать художественные фонды для расширения экспозиции пресекалось. И самым трагическим было намерение Комиссии Госфондов рассматривать все хранящиеся в пригородах произведения искусства как часть Государственного музейного фонда.