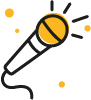
«В Петербурге можно всё» — серия встреч с известными людьми для студентов и выпускников СПбГУ, организованная «Билайн», Ассоциацией выпускников СПбГУ и «Бумагой». Участники проекта рассказывают о том, как сумели сделать любимое дело своей профессией.
Следите за анонсами встреч, приходите и читайте расшифровки интервью на «Бумаге». Все материалы прошлого сезона, во время которого прошли встречи с Сергеем Шнуровым, Михаилом Боярским, Билли Новиком, Вячеславом Полуниным и другими, собраны здесь.
Почему фильм «Довлатов», который купили 40 стран, в России поначалу считали никому не нужным, чем бы занимался писатель, если бы жил сегодня, и по какой причине в российской киноиндустрии ищут не талантливых, а «усредненных» актеров?
«Бумага» публикует расшифровку открытого интервью режиссера Алексея Германа-младшего для студентов СПбГУ, ставшего первым в новом сезоне проекта «В Петербурге можно всё».

Олеся Пушкина (ведущая): «В Петербурге можно всё» — это проект, в котором выдающиеся люди рассказывают, как стали заниматься любимым делом. На этих встречах уже выступали Сергей Шнуров, Михаил Боярский, Евгений Водолазкин. А сегодня с нами режиссер, сценарист, лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей Алексей Алексеевич Герман.
Одна из частей знаменитой трилогии «Дорогой мой человек» вашего дедушки Юрия Германа называлась «Дело, которому ты служишь». Как вы выбрали то дело, которым занимаетесь? Как поняли, что будете режиссером?
Алексей Герман-младший: До сих пор не понял. Во-первых, я совершил некоторое количество ошибок в жизни. Не то чтобы ошибок, но каких-то движений, не в полной мере осознанных. Допустим, учился на театроведческом факультете, где вы тоже, наверное, учились.
ОП: Да, это мой факультет.
АГ: Я проучился там какое-то количество лет. Не могу сказать, что из меня вышел плохой театровед, — наверное, вышел бы и хороший. Время было сложное, спектаклей было мало. Приличных. В какой-то момент я стоял в публичной библиотеке в научных читальных залах, в маленькой прокуренной комнатке, где было ведро с жижей, в которую кидали недокуренные сигареты. Тогда подумал, что я не очень хороший исследователь, и поступил на платное отделение ВГИКа. Какие-то из учебных работ были удачные, какие-то неудачные. Первые были чудовищные. Потом получше, потом еще получше. Потом были хорошие, но которые никому не нравились, потом были те, которые многим нравились. Я втянулся. Но до сих пор, если честно, не считаю мой выбор в жизни стопроцентно верным.
В этой профессии, как и в любой другой, существуют амбиции, и сначала они тебя двигают. Ты хочешь доказать, что тоже можешь, что ты не просто сын известного кинематографиста, занимающий чье-то место. Потом тебе начинают предлагать картины. Я чувствую определенную ответственность, но до сих пор не могу сказать, что правильно сделал, пойдя в режиссуру. Что-то получается, что-то не получается. Наверное, больше получается.
ОП: Когда кинорежиссер заканчивает ВГИК, в качестве дипломной работы он должен представить фильм. Каким он был у вас?
АГ: У меня было некое количество короткометражных работ. Первая моя короткометражная работа называлась «Знамя», это был десятиминутный фильм. Его сразу отобрал к себе Кустурица, который проводил мастер-класс. Это был, наверное, 97-й год. Но к Кустурице я не поехал, потому что начались бомбардировки в Югославии, и они всё это дело отменили.
Потом у меня был фильм «Большое осеннее поле», который наполучал каких-то короткометражных призов. После я снял дипломный фильм «Дурачки», который тоже что-то где-то получил. Но, в принципе, я считаю, что первый осознанный приз получил за фильм «Последний поезд» о немцах на войне. Он вырос из короткометражки.
Однажды ночью я сел и понял, что всё, что написано, ужасно, и этот фильм снимать нельзя. И «написал» короткометражный фильм на абсолютно другую историю. Мы отсняли 25 минут, потом у нас появились деньги на полнометражную картину; мы ее сделали, отвезли на фестиваль в Венецию, где получили небольшой приз. Потом этот фильм очень широко показывался в мире. Парадоксальная история: был фестиваль в Израиле и параллельно — фестиваль в Палестинской автономии. Я считаю, что это мой первый относительно осознанный фильм. Не потому, что другие были так плохи, а потому, что он стал результатом всех тех ошибок, которые я наделал перед обучением во ВГИКе. Какие-то отрывки ставил; тоже — какие-то были неудачные, какие-то удачные, разные. Но вот этот фильм я считаю точкой.
ОП: А потом был фильм «Гарпастум» с моим любимым диалогом. Два героя ложатся спать, и один другого спрашивает: «Коля, а правда, я эгоист?» — «Правда». — «А что теперь делать?» — «С этим ничего не поделать, давай спать». Один из этих героев — Данила Козловский. И вообще говоря, это чуть ли не первая работа Козловского в большом кино.
АГ: Это его первая крупная работа. До этого он снимался в каком-то детском сериале, потом у него были отрывки секунд на 12–14 в сериалах типа «Ментов». Этот фильм был в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, его очень хорошо приняли. Но получил награду фильм «Горбатая гора». Не докрутили немного.
ОП: Интересный выбор жюри.
АГ: Нормальный.
ОП: Вы свои старые фильмы пересматриваете? В чем для вас заключается работа над ошибками? Может быть, думаете: «Здесь бы я сейчас сделал что-то по-другому».
АГ: Редко. Понимаете, ничего в жизни нельзя сделать, не совершив ошибку. Ты всё равно учишься на своих ошибках, на попытках найти ту форму и те смыслы, которые для тебя важны. Есть прекрасный термин в точных науках: «последовательное приближение». Он, на мой взгляд, многое описывает. Я не так часто пересматриваю свои старые фильмы, но в какие-то грустные моменты, когда думаю, что что-то не получается, пересматриваю. Иногда радуюсь, иногда думаю, что что-то сделано неправильно. Иногда думаю, что они сделаны правильно, но никто этого не поймет. Но я никогда ни о чем не жалею, потому что всё, что я делаю (неважно, удачно или неудачно), [делаю] на том максимуме — физическом, эмоциональном, интеллектуальном, — каком могу. И если что-то не получается, это значит, что я просто каких-то вещей не понимаю.
Это постоянное обучение, постоянная попытка найти что-то новое. Всё равно от себя не уйдешь. Мы всегда в какой-то степени пишем одну и ту же книгу или снимаем один и тот же фильм. Но развитие — это не быть похожим [на себя]. Один фильм может быть такой, другой может быть такой. Мне не очень интересно мое прошлое творчество. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но оно живет. Поэтому бесконечным самоудовлетворением — здесь университет, я бы иначе сказал — ты ничего не добьешься. Мне кажется, что надо идти дальше.

ОП: Удача или провал формирует человека?
АГ: Это очень сложный вопрос. Что такое провал и что такое удача? Я-то думаю, что удачи не всегда хороши. Они хороши в какой-то момент жизни, когда тебе надо поверить в себя. Приятно, когда тебя все любят, заглядывают тебе в глаза, улыбаются тебе. Но профессионалу, наверное, это дает меньше. В любом случае я считаю, что двигаться в жизни надо в разных направлениях. Мы снимали какие-то фильмы, которые были известны; мы снимали фильмы, которые фантастически проваливались. Это не делает их хуже.
Двигают тебя, конечно, неудачи, неудовлетворение и желание прыгнуть выше. К сожалению, с возрастом, когда начинаешь примерно понимать, как устроены законы в жизни и кинематографическом пути, ты осознаешь, что свободы у тебя остается внутренне меньше. С этим нужно бороться. Поэтому меня лично формируют страх и неудачи в первую очередь.
ОП: В одном из своих интервью вы говорите: «Раньше люди ориентировались на великих, теперь на успешных». Не кажется ли вам, что все успешные люди в связи с ходом истории становятся великими?
АГ: Был такой художник — Ротко.
ОП: Был.
АГ: Мне кажется, у него не очень складывалась биография. Но он великий типа. Был еще такой — Ван Гог. У него тоже не очень складывалось. Есть некие художники, у которых всё хорошо, но они не очень талантливы. Мой отец снимал фильмы. Второй фильм «Проверка на дорогах» был запрещен и пролежал 15 лет. Сейчас он признан одним из самых-самых фильмов про войну в нашей стране. Он входит в список 100 фильмов, которые должны посмотреть школьники. Его показывают 9 мая.
Был фильм «Мой друг Иван Лапшин». Один из лучших советских фильмов, который получил лишь бронзового леопарда на фестивале в Локарно. А «Хрусталев, машину!» — вообще смешно — ничего не получил.
Канны — очень уважаемый фестиваль, но это несопоставимо с уровнем фильма. Фильм не очень хорошо прошел в Каннах. Отец из-за этого страдал. Я недавно видел его фотографию после Каннского фестиваля и подумал: как он постарел буквально за эти несколько месяцев. Он считал, что это относительно честный бизнес. А это, как вы понимаете, бизнес в любом случае не очень честный. Он этого не понимал, не было опыта, потому что многие фильмы были запрещены.
Где критерий успешности? Были гораздо более успешные фильмы в это время. Их больше знают. Есть замечательная ленинградская живопись, о которой никто ничего не знает. Арефьев. Была у таких художников пара выставок в Эрмитаже. Выпустили альбомчик. Кто о них знает? Никто о них не знает. А есть художники, которых знают все и снимают о них документальные фильмы. Скажем так, в определенной степени менее талантливые, но более авангардные, которые вообще художниками не являются. Выпендреж. Мне кажется, настоящим пробиваться всегда сложнее. Или из-за политики, или из-за денег.
ОП: А кто для вас великий в вашей профессии?
АГ: Не так много. Одзу, Феллини, Бергман, Тарковский, Кира Муратова. Молодая Кира Муратова. Папа, понятно. Еще какое-то количество.
ОП: Еще в одном интервью вы говорите: «Важно, чтобы героями сегодняшнего дня были писатели». Почему?
АГ: Это когда я сказал?
ОП: На встрече в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.
АГ: А, да. Я не мог сказать, что это только писатели. Может, у меня похмелье было? Пьяный был? Нет, пьяный не был. В любом случае я говорил о том, что пытаюсь доказать довольно давно и довольно бессмысленно, как это ни печально. Я всегда говорил о том, что необходимо, извините за пошлое слово, популяризировать героев, связанных с интеллектуальным трудом. Потому что это очень важно для страны: писатели, ученые, библиотекари.
Надо формировать общество сложных людей, общество знаний. Потому что мы, к сожалению, потихонечку превращаемся в провинциальную страну. И что бы нам ни говорили начальники, рассказывая о том, как растет интеллектуальный потенциал, потенциал не растет, он только падает. И чтобы у нового поколения появилась какая-то тяга к знаниям и стало модно не только шмотки покупать, об этом нужно говорить, об этом нужно снимать кино, а не только о спорте. При всём моем уважении к спорту и спортсменам. Они, конечно, очень уважаемые люди, помогают гордиться своей страной. Безусловно, помогают вести здоровый образ жизни, который я не веду… Но решают мозги. Я говорю так лет 15.
ОП: С чего начался фильм «Довлатов»? Вы неоднократно говорили о том, что хотели брать что-то из Набокова либо рассказ Довлатова.
АГ: В 2008 году Екатерина Довлатова предложила мне экранизировать своего папу, написала письмо. Тогда мы не могли это делать. Возможности появились в 2014–2015 году. К этому времени уже была [готова] экранизация Говорухина.
Я почитал Довлатова и понял, что он экранизации не поддается. У Говорухина поддается, а у меня нет. И подумал, что можно сделать попытку вольной биографии. Но биографии не в тяжелой и не в голливудской форме. Мне кажется, что фильмы-биографии — то, что называется байопиком, — должны быть либо рубленые, упрощающие, если вы хотите взять [жизнь] человека во всем объеме, либо про какой-то промежуток времени. Я выбрал второй вариант. И как-то всё завертелось.
ОП: В одном интервью вы говорите, что вам важно не показывать писателя пишущим. Почему?
АГ: Как вы покажете писателя пишущим?
ОП: За машинкой «Ундервуд».
АГ: Для чего? У него не «Ундервуд» был. То есть в прозе «Ундервуд», а на самом деле не «Ундервуд». Но что он должен [делать]? Выкидывать листики, мучиться, биться головой о стену? Писатель — это результат его труда. Это не процесс. На процесс упор у актера, а у писателя — на результат. Я могу ошибаться, но писательство — это когда в тебе что-то концентрируется, преломляется — и потом выходит в свет. Мы не снимали фильм о писателе, мы снимали фильм о молодом человеке, который выбирает свой путь. Он не уверен, что будет писателем, хотя очень хочет им быть; но у него не получается по разным причинам. Мы брали период, когда у него только зарождается слог и отношение к жизни. Мне кажется, что писатель за этой машинкой несчастной — пошлость какая-то, какой-то «женский» фильм.
ОП: Мелодрама.
АГ: Ну да.
ОП: У вас же наверняка есть любимое произведение у Довлатова?
АГ: Я не воспринимаю Довлатова отдельными произведениями — мне весь Довлатов нравится. Для меня его произведения уже уплотнились с воспоминаниями о Довлатове, анекдотами и легендами. Я его всего воспринимаю как огромное странное нездешнее животное, которое бродит по городу.
ОП: А у вас есть какое-то режиссерское ноу-хау, как отбирать актеров? Знаю, что многие режиссеры дают на пробах актерам текст «Дяди Вани» [Чехова].
АГ: Мы даем на пробах текст «Дяди Вани». Не на пробах, а на первоначальном кастинге. Но это никакое не ноу-хау. Если ты тонкий, способный человек, тебе сложно плохо прочесть этот текст. Нам важно, чтобы героев играли тонкие, сложные люди. Которым я могу поверить, что они могли бы быть писателями, художниками. А не так: сегодня человек сыграл милиционера, а завтра… За исключением Артура Бесчастного, который играл сотрудника правоохранительных органов, потом приезжал играть Бродского и сходил с ума. Перенастраивали его.
ОП: Было пять Бродских [на пробах]?
АГ: Много было Бродских. Мы искали людей, которых можно имплантировать в этот выдуманный нами мир. Мы никогда не говорили, что делаем документальное кино. Даже на собирались делать кино, основанное на прозе Довлатова. Мы снимали с нашим ощущением людей и времени. Для того чтобы понять, может ли этот сложный тонкий человек с прекрасным лицом вдруг прочесть Чехова, мы даем ему этот текст. Это никакое не ноу-хау.
ОП: Ну, у каждого режиссера ведь свой метод. Не думаю, что «Дядя Ваня» — это какое-то общее место.
АГ: Я не очень знаю, что такое «свой метод». Метод у всех примерно один. Была такая система Станиславского; он примерно всё правильно написал. Было еще какое-то количество людей. Это метод. Всё остальное — шаманство.

ОП: Вам писали эсэмэс очень многие известные люди: хотели сниматься в «Довлатове». Как вы им отказывали? Наша аудитория — студенты: вдруг им когда-то тоже придется это делать?
АГ: Врать. Сохранять хорошие отношения [там], где можно. Где нельзя — вертеться. И мягко отказывать. Иногда это невозможно. Нам посылал фото человек, совсем не похожий на Довлатова, которому было лет 50: ослепительно русский, толстый и ростом 1,62 м. И говорил: «Точно знаю, что я Довлатов». Тогда приходилось либо уходить на дно, либо писать, чтобы не беспокоил.
ОП: Вы также неоднократно говорили, что в вашем договоре прописано: все финальные решения принимаете вы. В какой момент это произошло или так было всегда?
АГ: Всегда. Но я не принимаю участие в финансовых решениях. Стандартный договор — это когда у тебя нет прав никаких вообще. Сегодня пришел, завтра тебя уволят. Я не хочу, чтобы меня увольняли. Но надо понимать, что я работаю с друзьями. Мы не обсуждаем договор, это много лет работы с одними и теми же людьми.
Если не знаешь человека, то не знаешь, как он поведет себя через полгода. Все же вначале милые. А вся русская индустрия на 70 % — мошенничество, воровство и непорядочность. У меня было в жизни достаточно много моментов, когда я понимал, что либо фильм никогда не будет снят, либо меня обманывают. И я стараюсь себя страховать. Это нормально: когда вы выбираете ипотеку в банке, вы тоже изучаете договор. Это как бы гигиена.
ОП: Критики говорят, что Довлатов — самая успешная ваша картина, получившая приз в Берлине, собравшая кассу очень мощно, несмотря на ограниченный прокат. Вы говорите: милиционеры играли милиционеров, музыканты играли музыкантов…
АП: Не всегда, но в некоторых случаях да.
ОП: А ваша жена Елена Окопная говорит, что специально наряжала массовку. Зачем художественному произведению такая правда? Особенно сейчас, когда всё так быстро.
АП: Мы не хотели сериал. Знаете, как сейчас по телевизору показывают: девочка прощается с юношей, 41-й год, он уходит на войну. Напротив него пластиковое окно. Современная краска «тиккурила». Современный асфальт, такой, знаете, гладенький, с аккуратно нанесенной разметкой. Мы так не хотели. Мы — те, кто постарше, — помним, что город был других цветов.
Недавно весна была ранняя, холодно было. Мы ехали на дачу и остановились в супермаркете в районе «Чкаловской» или «Спортивной». Я посмотрел на лица — бледные, у кого-то испитые — и понял, что не так много изменилось. Ну, за исключением краски. Поэтому мы понимали, что люди должны быть индивидуальны. Елена понимала. Костюм должен как-то подчеркивать лицо. Мы старались.
ОП: А как вы понимаете, сколько экранов нужно фильму? Я знаю, что вы получили значительное количество отказов. Многие сомневались, что у фильма есть перспективы в прокате. Как вы справлялись с этими отказами?
АП: Мы хотели 800 кинотеатров, получили 400. Если бы мы получили 800, фильм бы заработал на процентов 40 больше. К сожалению, очень многие директора кинотеатров фильм брать не хотели, поэтому он вышел усеченным прокатом. Нас многие обвиняют в том, что мы объявили короткие даты проката. Ну а что нам было делать? Это был единственный способ повысить явку, потому что иначе нас бы сняли через неделю.
Вся история фильма, который купили 40 стран и Netflix, состояла в том, что мы бесконечно доказывали огромному количеству людей, что это кому-то нужно. А нам огромное количество людей говорило, что это никому не нужно, что нам не надо выходить в прокат, что мы ничего не соберем. Мы сидели со всякими начальниками и говорили: «Мы решили снять фильм о Довлатове». Они говорили: «Мы Довлатова очень любим, но это никому не интересно». А мы говорим: «Мы сделали опрос всероссийский. Вот данные». Они говорят: «Данные неинтересны». Проблема страны в том, что у нас плохая социология. Страну никто не знает и не понимает. И очень многие, как мне кажется, решения — в том числе коммерческие — принимаются на фейковой базе. Такой «эффект Трампа»: когда социология одна, а на самом деле всё другое.
ОП: Почему?
АГ: Я не знаю. Может быть, нужно разогнать социологов. Может быть, [у них] неправильные методики. Но, на мой взгляд, очень мало кто представляет, как устроена страна. Я имею в виду, как устроено относительно образованное сословие в городах.
ОП: Вы говорите: «Не могу представить Довлатова, который приходит на ток-шоу; к которому приезжают на дачу и снимают о нем программу». А как, по-вашему, могла бы сложиться альтернативная история Довлатова, если бы он не уехал?
АГ: Не могла бы. Понимаете, он должен был мучиться, его не должны были публиковать, он должен был уехать, он должен был стать известным — на Западе сначала; потом он должен был трагически умереть. То же самое, что Бродский. Есть какая-то трагическая логика в жизни художника. Действительно, невозможно представить Бродского и Довлатова, посещающих ток-шоу или празднующих на даче юбилей, чтобы это снимал канал «Культура». Или роман Бродского с молодой актрисой Снежаной. Невозможно, понимаете? Трагические судьбы могли бы быть только такие. Ну а как бы сложилась его судьба, если бы он остался? Не знаю. Мог бы спиться, могли бы посадить, мог бы испугаться и начать писать детские сценарии, за которые бы хорошо платили. Не знаю.
ОП: А у вас как-то поменялось представление о Довлатове в процессе съемок фильма?
АГ: Узнал что-то новое.
ОП: Возможно, у вас изменилось представление об эпохе?
АГ: Я примерно представляю себе эту эпоху — из-за многих обстоятельств, в том числе семейных. Она примерно такая и была. Когда фильм вышел, Андрей Архангельский — сумасшедший, но очень милый человек (и журналист хороший) — писал, что мы эпоху то ли приукрасили, то ли сгладили. А в газете «Культура»… Есть такая газета — позор, а не газета — написали, что мы, наоборот, сделали ее слишком безрадостной. Сумасшедшие демократы начали писать, что мы по заказу администрации президента сделали всё красивей, а сумасшедшие патриоты начали писать, что мы по заказу Госдепа сделали всё некрасивей.
ОП: Каждый сыграл свою роль.
АГ: Конечно, это же безумные все люди. А на самом деле эпоха такая и была. И мое представление об эпохе — воспоминания о том, как когда-то запрещали фильм отца. Это истории других режиссеров, которых запрещали, и все эти фильмы знают и любят. Там не было ничего уж такого крамольного. [Я помню] запрещенную литературу, запрещенных художников, какие-то островки интеллигенции, которые существовали в городе. Образованного сословия было больше. В общем, холодный достаточно, темный, серый город, который сейчас значительно менее серый и значительно менее темный. И значительно более благоустроенный — за исключением того, что очень многие уехали и средний процент интеллигенции стал меньше, к сожалению.
Это было такое мягкое безвременье. Это было время где-то мягких запретов, а где-то изуверски жестких. Это было время, когда огромное количество замечательных художников и писателей были вынуждены уехать из страны. Которые вообще не были диссидентами. Ну какой Бродский диссидент? Он сначала хотел, собственно говоря, стишки писать. Потом его довели до этого состояния.

ОП: Несмотря на все сложности того времени, оно всё же объединяло людей? Сегодня время другое?
АГ: Где-то было счастье, радость, празднование. 23 февраля, Новый год. Поездки на дачу. Но у какой-то части прослойки интеллигенции было другое ощущение. Мы же не говорим про всю страну, про все социальные группы. Мы говорим только про определенный срез.
ОП: А сейчас у вас от времени какое ощущение? Сегодняшний герой — он писатель? Мне кажется, сегодняшний Довлатов мог бы написать «Пиши, сокращай», научить всех, как писать правильно, и прекрасно себе как-то существовать. Или нет?
АГ: Сегодня другое время. Сегодняшний Довлатов, может быть, публиковался бы в интернете. Возможно. И сегодняшний Довлатов, наверное, как-то бы нашел путь к читателю. Тогда это было сделать невозможно по понятным причинам. Все-таки это разные страны.
ОП: Про это и был мой вопрос. Мое поколение, например, что-то знает об этом времени, но до конца не понимает. У нас есть айпэд, у нас есть приложения, у нас есть 20 способов одеваться или правильно выйти замуж…
АГ: Какие 20 способов правильно замуж выйти? Почему 20?
ОП: Не кажется ли вам, что сегодняшний молодой человек может посмотреть фильм и подумать: а отчего Довлатов-то страдал?
АГ: Вы имеете в виду конформистское поколение? Оно существует. Поколение заказа. Особенно рекламщики, многие из которых, кстати, не понимают фильм. Это не из области художественного, а из области сферы обслуживания. «Насилуют» их часто, короче говоря. Образно. Конечно, какому-то количеству людей непонятно, что такое призвание, что такое жизнь по гамбургскому счету, что такое следовать своей судьбе, что такое выбирать не деньги, а свободу выражения. В этом плане сегодняшнее поколение 25–35-летних действительно другое. Оно более конформистское, оно более слабое, оно более зациклено на мелкобуржуазных благах.
Безусловно, сейчас каждый второй говорит про еду и отдых, тогда говорили про другое. Безусловно, сейчас менее правильная речь. Безусловно, тогда то, что сейчас называется идиотическим словосочетанием неймдроппинг, тогда было важными разговорами о науке, культуре и искусстве. Но это не означает, что не появляется следующее поколение, для которого слово «призвание» не есть пустой звук. Конечно, это всё будет меняться от поколения к поколению, но мы, очевидно, испытываем дефицит идеалистов. В понимании внутреннего идеализма. С этим очень многое связано — в том числе и то, что с наукой плохо.
ОП: А сегодняшний герой вам интересен?
АГ: В какой-то степени да. Сегодня много разных героев.
ОП: А сегодняшний писатель?
АГ: Сегодняшний писатель мне не интересен.
ОП: Почему? Например, Захар Прилепин.
АГ: Мне не интересен Захар Прилепин, не интересен Дмитрий Быков.
ОП: Сегодняшний молодой писатель?
АГ: Молодой писатель поинтереснее. Я считаю, что у нас есть огромное количество людей, которые не менее интересны, чем писатели, и нас окружают. Любых профессий, как ни странно. К сожалению, человек генетически так устроен, что он взрослеет. У него начинает что-то болеть, как у меня сейчас, всё чаще и чаще. (Потирает шею.) И не всегда человек определенного возраста может рассказать и уловить ощущение условного 20-летнего. Ты все-таки должен немножко понимать, о чем говоришь. Это сложно, потому что иначе ты становишься умозрительным, выстраиваешь конструкцию на очень шатком фундаменте.
Поэтому очень часто, когда взрослый режиссер начинает снимать фильм про любовь молодого мальчика и девочки, то помимо фетишистских или мелкосексуальных желаний и удовлетворения за этим ничего не стоит. Поколение надо понимать, знать, чувствовать его. Поэтому мне, наверное, было бы сложнее снять фильм о 20-летнем. Я могу, безусловно, потратить огромное количество времени, изучая их в фейсбуке. Но мне кажется, ты должен говорить о человеке, который относительно близок к твоему возрасту. Либо о человеке старше. Мне вообще кажется, что о человеке старше снимать проще, чем о человеке младше.
ОП: А следующий ваш проект — о женщинах во время Великой Отечественной войны. Что это за проект? Можете рассказать?
АГ: Нет.
ОП: Очень жаль.
АГ: Ну не хочу. Потом расскажу.
ОП: Хорошо. Наши встречи называются «В Петербурге можно всё». И я хочу вас спросить: что можно в Петербурге, чего нельзя в Москве, в Токио, в Нью-Йорке?
АГ: Понимаете, я всегда не любил людей, которые становятся функционерами или которые любят красивости. Поэтому я как человек, который любит красивости, скажу, что нельзя погулять по Царскому Селу или нельзя посетить Эрмитаж. Но на самом деле мне-то кажется положительным моментом, что еще остается пространство в Петербурге, где можно почувствовать себя в Нью-Йорке. А вот Токио — это вряд ли. Хорошо, что в Петербурге есть возможность заниматься примерно тем же, чем в условном Нью-Йорке. За исключением того, что это будет сложнее, с вероятностью проверок и некоторых других обстоятельств. Но у нас есть возможность оставаться современным, как ни странно, молодым городом. Почему молодой — потому что у нас очень много прекрасных баров. И прекрасных молодых лиц, которые я вижу, когда захожу в бар.
Существуют молодые ребята, которые чего-то хотят и что-то делают. Это очень важно. Я не считаю, что открытость — это плохо. Поэтому основное достоинство Петербурга — в том, что он становится открытым, интеллигентным, в общем, добродушным городом. Если бы Петербург был более открыт для мировой культуры и здесь бы проходило больше художественных событий, сюда бы приезжала замечательная живопись, замечательный балет, было бы лучше. В Москву всё это приезжает чаще, чем в Петербург, как ни странно. Вот это очень важно: быть открытым миру и сохранять какое-то свое лицо. Какое-то свое лицо у Петербурга есть. Но, к сожалению, Петербург сейчас — помимо Мариинки — не тот город, который задает тенденции в мировой культуре. Это плохо. Петербург не занимает то место на культурной картине, которое занимал 100 лет назад.
В нашей истории произошло очень много трагических событий. Очень многие умерли, уехали, многое было уничтожено. Возможно ли, что это изменится? Да. Но всё ли можно в Петербурге? Не всё. Потому что, к сожалению, обнищание таланта в Петербурге гораздо больше, чем во всех остальных городах нашей страны. Больше, чем в Екатеринбурге, больше, чем в Москве, больше, чем в Новосибирске. Поэтому что-то можно, а что-то сложнее. Мы же не город стартапов, к сожалению.
ОП: А у вас есть любимые места в городе?
АГ: Это обязательный вопрос, да? От «Билайна»? Их много. Я люблю библиотеки. Когда-то в них часто сидел. Недавно опять сходил в театральную библиотеку, давно там не был. Я люблю питерские театры — прекрасный театр БДТ.
Я стесняюсь, когда мне задают такой вопрос, потому что Питер — это не места. Питер — это одна улочка, через которую ты переходишь другую улочку. Это каналы — все по-своему замечательные. Это звук настраиваемых инструментов, когда ты проходишь мимо Капеллы. Это огромное количество китайских туристов, которые раздражают. Это история моей семьи, это история моих друзей. Это моя школа. Понимаете, я не рассматриваю Петербург как какое-то отдельное место. Для меня это прошлое и настоящее, то, что мне нравится, и то, что меня раздражает.

ОП: У нас есть вопросы из зала и те, что задают зрители онлайн-трансляции «ВКонтакте».
Молодой человек из зала: Как ваш отец отнесся к тому, что вы решили заняться кинематографией, и к вашему поступлению во ВГИК? Давил ли на вас его авторитет?
АГ: Он рассказывал легенды по поводу того, как он стоял на коленях и говорил, что не надо. И это не так. А как может не давить авторитет? Конечно, он давит. Конечно, всегда находились люди, которые мне тыкали лет с 20, что у меня папа вот такой, а я такой. Это нормально. Мне кажется, в давлении авторитета нет ничего уж такого криминального. Потому что у каждого в жизни свои сложности. Мне кажется, что поступить во ВГИК, когда ты приехал из маленького города и тебе надо выживать, — это гораздо сложнее, чем учиться на платном, когда ты сын известного кинематографиста. Я не склонен преувеличивать сложные обстоятельства своего взросления.
Молодой человек из зала: Вопрос о традиционных титрах, рассказывающих о дальнейшей жизни героя. Почему вы решили оставить титр, посвященный Бродскому?
АГ: Потому что люди глупеют и становятся всё менее образованными. А зарубежный зритель про нас не знает вообще ничего. Они знают, что был Толстой, Достоевский, война, Ленин, революция, Горбачев и что у нас очень холодно — и на этом у среднего европейского интеллигента знания о нас заканчиваются. Они и не хотят [знать], на самом деле. Неинтересно. Нам было важно сохранить контакт с аудиторией, которая не владеет ситуацией. У нас фильм прекрасно смотрелся и без закадрового голоса. Но, к сожалению, сам по себе предмет нашего рассказа был малознаком не только нашим иностранным зрителям, но и части зрителя отечественного.
Нам бы сказали: Brodsky? What? Who is it? Это вообще проблема: с каждым годом нужно разжевывать всё больше и больше для идиотов. Вы знаете, я когда-то читал лекцию о фильме «Сталкер» Тарковского, и большое количество дебилов говорили, что они этот фильм видели, но не понимают, почему там нет персонажей компьютерной игры «Сталкер». Я, конечно, с уважением отношусь к компьютерной игре «Сталкер», но тут они немножко перепутали.
ОП: Вопрос от человека, который смотрит нас онлайн…
АГ: Здравствуйте. Вы один. Вы очень хороший человек.
ОП (читает вопрос): «Не было ли у вас, Алексей, желания экранизировать „Сто лет одиночества“ Маркеса?».
АГ: Вы знаете, мы и на «Довлатова»-то денег нашли с трудом, хотя казалось бы. Представьте себе: ты просыпаешься, а к тебе приходит человек и говорит: «Алексей, хочу дать тебе 10 млн долларов на Маркеса. С Козловским». У нас было очень много идей, что можно экранизировать. «Защиту Лужина» хотели сделать, к примеру. Но вы же понимаете, что это невозможно. Проблема в том, что сделать фильм по Набокову в англоязычной стране за небольшие деньги — а мы делаем фильмы за очень небольшие деньги — может, было бы возможно. Но в России это невозможно, потому что никому не интересно. Никогда не соберешь бюджет. Я вам скажу честно: деньги в кинематографе в основном платятся либо за избыточную нелюбовь к родине, либо за обожание родины. А за уважительный разговор о родине платить никому не интересно. Или за экранизацию замечательной прозы. К сожалению, мы очень ограничены в возможностях. Всем надо другое, потому что всё стагнирует.
Девушка из зала: В одной из сцен «Довлатова» я увидела героя из вашего предыдущего фильма «Под электрическими облаками». В этом есть какой-то особенный смысл?
АГ: Друзья, я не такой умный. У меня нет никаких особенных смыслов. Есть набор симпатичных талантливых людей, с которыми мы работаем. Их не так много. После развала Советского Союза у нас не самое лучшее образование в стране. Советское образование было лучше, профильное уж точно. И поэтому мы всех талантливых людей — и новых, и старых знакомых и незнакомых — тянем в фильм. Поэтому Вениамина Каца мы всегда рады видеть в наших фильмах. Он вообще не актер, он на повара учится.
Девушка из зала: Я работала над созданием и продвижением проекта «Эрмитаж VR». Это первое игровое кино в формате 360. VR-экскурсия по истории Эрмитажа с Константином Хабенским в главной роли. Верите ли вы в перспективу этого жанра и не думали ли создать что-то в таком роде?
АГ: Есть две проблемы, которые вам предстоит, видимо, преодолеть. Например, проблема тошноты.
Девушка из зала: Там специальный хронометраж предусмотрен.
АГ: То есть очень короткий?
Девушка из зала: 18 минут, да.
АГ: А вы тесты делали?
Девушка из зала: У нас этому проекту уже год практически. В Главном штабе Эрмитажа, сейчас мы выходим в Москву. И поедем на Каннский фестиваль завтра.
АГ: Ну круто. Мне кажется, что это хорошая история. Правильно, что там виртуальная реальность: то-се, походил. Насколько это будет работать, непонятно, потому что технология пока не очень отработанная. У вас же, наверное, она не чисто коммерческая, да? Это всё зависит от цены, от способа финансирования, от возвратности и от того, как вы будете продавать. Если у вас получится, прекрасно.
Я хотел попробовать сделать такую историю, но не нашел приемлемого технологического решения, в том числе по деньгам. Мне показалось, что в данный момент это слишком громоздкая технология. VR, как мне кажется, пока не отработан. Конечно, Эрмитажу проще аккумулировать деньги, это более внятный проект, чем что-то художественное. Главное, чтобы не тошнило — в VR есть эта проблема.
ОП (читает вопрос): «Почему на роль Довлатова был выбран сербский актер?».
АГ: Во-первых, он похож. Артист хороший. Парень хороший, настоящий какой-то. Во-вторых, он просто оказался лучшим, потому что действительно огромное количество людей посылало письма и эсэмэс и требовало, чтобы они снимались. Ключевая история про этот фильм — восприятие Довлатова. Кто-то считает, что Довлатов был равновелик своей прозе в цинизме, определенного рода сексизме, алкоголизме и прочих «измах». Мне же кажется, что проза Довлатова — это есть накопление жизненных наблюдений, ощущений, поданных в определенной степени с точки зрения кухонного разговора. Хорошего кухонного разговора, помноженного на любовь к краткости, определенную стилистику и так далее.
Для меня Довлатов — не небритый человек, который хапал женщин и бухал всё время. Потому что на самом деле это не совсем так. Он много работал, много совершенствовал свой язык, довольно рано вставал. Довлатов был человек определенной духовной чистоты. Это не означает, что он не мог выпивать, шутить или материться. Поэтому мы искали человека, внутренне настоящего. Эту «настоящесть» нельзя подделать. Мы искали человека обаятельного — это либо есть, либо нет. Невозможно имитировать определенные вещи в жизни. Поэтому мы остановились на сербском актере. И отвергли многих откормленных известных русских артистов, потому что нам показалось, что их внутренняя «настоящесть» уже ушла и это сломанные, тухлые, малоинтересные люди, которые появляются на вечеринках разных бабских журналов и фотографируются на фоне баннеров.
ОП (читает вопрос): «Можно ли посмотреть фильм „Довлатов», чтобы полюбить Довлатова, или наоборот: стоит смотреть фильм только тогда, когда уже любишь его?».
АГ: Я не знаю. Фильм 50 % нравится, 50 % не нравится. Мне кажется, это надо решать постфактум. Я не знаю, что такое «любить Довлатова», у каждого свой Довлатов. Кто-то говорит: «А я Довлатова таким и представлял», когда смотрит фильм. Кто-то говорит: «Он был точно не такой».

Молодой человек из зала: Учитывая то, что актеры, наверное, не самые скучные люди, хотелось бы услышать историю, когда [на съемочной площадке] всё пошло катастрофически не по плану. Если такое бывает, конечно.
АГ: Бывает. Вы знаете, всегда возникает вопрос о смешных случаях на съемках. Забавное, милое. И я каждый раз не могу вспомнить.
Молодой человек из зала: Ну или ужасное. Когда вы были в бешенстве.
АГ: Я часто бываю в бешенстве. Я произвожу впечатление мягкого человека — это обманчиво. Если ты хочешь сделать что-то хорошо, это требует определенной энергии, накала, поступательности движений. Достаточно многое дается сложно, в том числе расставаться с людьми, которые работают. Иногда это происходит в интеллигентной форме — иногда, к сожалению, не в интеллигентной форме. Иногда это происходит в крайне неинтеллигентной форме. Зачем я буду пересказывать крайне неинтеллигентную форму? Здесь нельзя, здесь университет. Наверное, его работники употребляют эти слова, но не перед такой большой аудиторией.
У нас, к сожалению, утрачена культура производства. Поэтому когда кто-то вносит в кадр бутылку вина, ты смотришь на нее и видишь штрих-код, которого, очевидно, не было в 70-е годы. Почему наше кино проигрывает? Потому культура производства, внимания к деталям утрачена за счет дешевых сериалов, которых особенно много производится в Питере.
Молодой человек из зала: Ваш выбор: Довлатов или Буковски?
АГ: Довлатов, наверное.
ОП: Нас сейчас смотрят 40 тысяч человек, и один из них спрашивает: «В одном из своих интервью Леонид Парфенов главным отличием рынка Великобритании назвал интерес к жанру нон-фикшн — в частности, к мемуарам и историям о маленьком человеке. При этом Парфенов отметил огромную любознательность англичан абсолютно ко всему. То есть рынок поглотит любую историю в тираже до 10 тысяч мгновенно. Почему в России нет такого спроса на подобные жанры и даже фильм о сложной судьбе выдающегося писателя Довлатова рискует не принести деньги создателям?».
АГ: Я сейчас не помню цифры, но у меня когда-то была довольно интересная статистика по количеству подписчиков интеллектуальных журналов в Америке. Это миллионы. И мы понимаем, что всё это как минимум удваивается, потому что какие-то из них демократического направления или республиканского. И что в общем количество людей, которые интересуются знаниями, так же велико, как количество людей, интересующихся IT. Задача культуры — создание сложных людей. А сложные люди — те, кто потом придумывает технологии. Поскольку мы теряем рост массы этих самостоятельно размышляющих людей, у нас и тиражи маленькие. Можно любить Америку или Англию, можно не любить, но у них тиражи большие. У них есть люди, которые потребляют подобное.
У нас, к сожалению, очень большой отток в том числе молодых. Моя жена из Екатеринбурга, она в хорошей школе училась при Академии наук. То ли треть класса, то ли половина уехала и достигла, надо сказать, выдающихся результатов за границей. И это ключевая проблема. Но покуда, как вы понимаете, у нас постоянно появляется депутат Милонов в телевизоре, отток, к сожалению, не будет прекращаться.

Девушка из зала: Вы считаете, что к искусству нужно подходить подготовленным — например, в кино или в картинной галерее?
АГ: Не знаю. Мне кажется, по-разному. Моя жена-орденоносец, которая получает сейчас награды по всему миру, вообще не имеет художественного образования. Она, кстати, по-моему, стала первой женщиной за огромное количество лет, которая удостаивается всех этих призов. В какой-то момент я понял, что она видит то, чего не вижу я. И то, чего не видят художники с образованием. Она видит мир сложнее, точнее и более объемно. Мы начали работать вместе. Вы знаете, какое количество [людей] меня ненавидит и решило, что я сошел с ума: взял какую-то бабу молодую, и она теперь занимает ответственную должность. Тем не менее время доказало, что я был прав.
Мне кажется, что мир многообразен и люди многообразны. Чтобы воспринимать какую-то прекрасную музыку, абсолютно не нужно иметь образования. Я очень не люблю клише. Например, что в Москве и в Питере всё хорошо, а везде живут дебилы. Есть разные города, побогаче и победнее, в них разные люди. Очень много интеллигентных, образованных и так далее. Я стремлюсь к тому, чтобы высказывание было чуть более универсальным. Другое дело, мне кажется, когда ты занимаешься культурой, совсем неправильно опускаться до уровня примитивного языка. Если мы будем говорить о сложных вещах примитивным языком, то через три поколения этот язык станет еще более упрощенным.
Девушка из зала: Фильм «Русский ковчег» снят одним кадром. Как вы относитесь к тому, чтобы долго-долго репетировать, а потом включить камеру один раз?
АГ: Нет законов и правил. Можно делать любые неожиданные вещи. Когда мы делали фильм «Довлатов», нам говорили, что он не будет нужен никому. Сейчас он куплен 40 странами мира: Францией, Италией, Португалией, Бразилией, Аргентиной… Не надо себя ограничивать. Если вам кажется, что ваш фильм будет лучше, если будет снят одним кадром, то делайте его одним кадром. А если вам кажется, что он должен быть коротко нарезан, то делайте его коротко нарезанным. Всё зависит от того, удастся ли фильм вообще. Всё остальное — это способы. Это манера высказывания. Стихи ведь можно одной рифмой и другой рифмой. Неважно.
ОП: Вопрос от онлайн-зрителя: «Может ли студент инженер-оптик попробовать себя в киноиндустрии, а именно — поучаствовать в создании вашего кино. Каким образом?».
АГ: Когда мы начнем [очередной проект], у нас будет страница в Facebook, куда можно будет написать. Не проблема. Очень часто к нам приходят молодые ребята и говорят: «Мы походим на ваши съемки». Мы говорим: «Пожалуйста». Они два-три дня ходят, потом понимают, что это долго, тяжело, холодно, неприятно — и начинают как-то тихо сливаться. Не проблема, если человек будет себя прилично вести, интеллигентно, не придет пьяный, не побьет актера и так далее.
Молодой человек из зала: Смотрите ли вы сериалы и каким бы вы сняли фильм о Путине?
АГ: Второй вопрос, конечно, интереснее. О том периоде, когда он с Собчаком стал работать. Это интересно: страна на переломе была. Интересно формирование взглядов, ощущений. Касательно сериалов и фильмов: я, к сожалению, как и большинство граждан нашей страны, действительно смотрю сериалы, и они мне нравятся. Как меньшее количество граждан нашей страны, смотрю американские сериалы. Мало того, я считаю, что средние американские сериалы лучше, чем средние российские сериалы.
Недавно смотрел «Сверхъестественное». И я подумал [о том], в чем трагедия нашего кино. А это продолжение трагедии нашего образования. Очень часто талантливые люди не могут пробиться. Почему столько интересных проектов в Америке и так мало у нас? Потому что нет кадров, нет талантливых режиссеров, актеров. Я думаю, что в Америке в среднем таких людей, как наши звезды, — сотни. А у нас единицы. Поэтому американские сериалы часто смотреть интереснее. Потому что ты людям веришь или они смешнее. Я смотрел и думал: взять персонажа вот этого сериала или вот этого, и он бы стал в России главной звездой. А в Америке он один из сотен.
У нас индустрия как устроена: берут красивеньких. Не талантливых, а усредненных. Поэтому у нас огромное количество стандартных артистов. И это трагедия, ломаются судьбы. Смотришь какие-то актерские курсы и вдруг видишь двойников, которые ничем не отличаются друг от друга.
Есть категория людей, которых я бы расстрелял или сослал, если бы пришел к власти. Конечно, часть преподавателей наших театральных вузов как минимум были бы сосланы.
Разумеется, советское образование было лучше. У нас же нет таких, как Леонов. У нас нет таких, как Миронов. Вы же знаете, что Андрей Миронов не очень умел танцевать. У него не было идеального слуха. Но он справлялся с этим колоссальной работой. У нас все откормленные ходят, в сериалах поснимались, всё уже знают. Довольные, богатые, ходят на премьеры, фотографируются для журналов.

Девушка из зала: Что заставляет вас делать реальное кино? Не опускать руки и не опускаться до коммерции?
АГ: Ну, смотрите. Я не очень люблю интересничать. Поэтому сказать, что я не снимаю коммерческих работ, будет неправдой. Не забывайте, что вы общаетесь с человеком, который был одним из лучших режиссеров рекламы бытовой техники. Я стараюсь иногда делать коммерческие проекты, и некоторые из них даже попадали в каннские шорт-листы. У меня это чуть-чуть получается — не очень, но чуть-чуть. Я просто редко это делаю. Но мне кажется, что правильно бить в одну точку. Или хотя бы в две. Поэтому я стараюсь не заниматься тем, что мне кажется стыдным или мошенническим. Я несколько раз в жизни попадал в такие ситуации, и у меня были крайне неприятные ощущения. Все-таки я стараюсь работать с людьми, которым доверяю и которые доверяют мне, и стараюсь делать то, из чего может получиться приличное кино.
Вот такая история была с «Гарпастумом». Я пришел туда вторым режиссером, не был там основным. Я познакомился с продюсером Александром Вайнштейном, который очень любит футбол, он сказал: «Я хочу отдать долги своей молодости», я сказал: «Окей, давайте. Но нужно уволить всю команду, переписать сценарий и начать всё заново». И парадоксальным образом он на это согласился.
Если бы мы тогда не пошли на кардинальную переделку всего, то ничего бы не вышло: там были какие-то сериальные ребята, плохо подобранный реквизит. «Гарпастум» — это, кто не знает, фильм о футболе в начале века. Я, кстати, один из зачинателей спортивного кино в России. Просто я это делал, когда никто не делал. Сейчас-то модно. Я говорю: «В начале века ведь не на всех цилиндры были». Мне говорят: «Пускай на всех». Я понял, что если оставлять всё в таком же виде, это будет фильм-позор. Мы перенесли действие из Москвы в Петербург, нашли новых актеров, переписали сценарий, появился Козловский — молодой, тонкий, хлесткий юноша. Фильм, мне кажется, получился. Я просто не преступил ту грань, когда всё превращается в заказуху.
Однажды я снимал рекламу: денег не было. Совсем какую-то позорную. Я проснулся и подумал: какой же мне дурной сон приснился. Что я вот этот весь бред сумасшедший снимал. С этими девочками из агентства — идиотками, проститутками. С пошлятиной какой-то. Потом я понял, что это был не сон. И я решил, что не хочу такого ощущения. Поэтому мне кажется, что нужно делать то, что тебе интересно. Потому что иначе это превращается в унылое псевдокино — как наши фильмы про вампиров. Дешево, позорно, неинтересно.
Девушка из зала: Не возникало ли у вас желания попробовать себя в качестве театрального режиссера?
АГ: У меня возникало желание, но это требует очень большой перестройки себя. Я знаю достаточно много примеров, когда режиссеры уходят в театр, но они недостаточно успешны. Это другое искусство, другое понимание пространства. Я думал об этом, но пока не решился.
Молодой человек из зала: Какие вы видите возможности роста и реализации молодых актеров в современной киноиндустрии?
АГ: Ограниченные. Я вижу довольно много препятствий. Молодые актеры действительно могут пробиться. Не всегда, но могут. Но это скорее элемент удачи. У нас, мне кажется, недостаточно развиты интернет-фестивали. Я как дурак ходил года три-четыре и говорил: давайте на ютьюбе сделаем интернет-фестиваль с отборочной комиссией, где будем показывать разные короткометражки. Как ни парадоксально, никто не согласился. У нас социальные лифты в кино не очень развиты. Другое дело, что действительно пробиваются новые люди, но пробивается не так много. Причины — достаточно маленькая емкость рынка. Все-таки мы не Штаты с 36 тысячами залов.
Я бы рекомендовал следующее: попытаться найти хорошего агента. У нас очень много мошенничества, агентов и агентств, которые что-то обещают, а на самом деле ничего не делают. Кроме того, нужно быть хорошим актером, это не помешает. И сделать хорошие фотографии, которые говорят о тебе что-то как о человеке. А то, знаете, есть фотографии таких красавчиков. (Пародирует модельные позы.) Немножко подташнивает. И, конечно, хороший театр. Потому что в первую очередь смотрят по хорошим театрам. И стараться, в общем, хорошо выполнять свою задачу. Есть довольно мало профессиональных режиссеров, но много тех, кто актеров уродует. Я знаю истории, когда очень способный человек, поснимавшись года три в российских блокбастерах, становился никудышным актером. Этот инструмент требует постоянной настройки.

Женщина из зала: Как, по-вашему, в наше время нужна цензура в искусстве?
АГ: Есть очень популярная точка зрения, что цензура нужна, потому что в Советском Союзе типа всё было лучше — в кино, в театре. Мне кажется, что это рассуждения идиотические. В США цензура тоже в каком-то виде есть. Она везде есть. Где-то она носит коммерческий характер, где-то — мягко-идеологический. Цензура есть везде, давайте не будем себя обманывать. Никакого прекрасного царства свободы не существует, к сожалению. Но в США, где цензуры все-таки было поменьше, чем в Советском Союзе, появилось поколение талантливых людей, о которых в мире знают гораздо больше, чем о наших. Поэтому мне кажется, что если бы в Советском Союзе не было этой идиотической цензуры, процент русской культуры, известной в мире, был бы существенно выше. Это первое.
Второе: не надо путать цензуру и уголовный кодекс. Действительно, наверное, не надо показывать голыми детей. И я против мата в кино. Я не считаю, что мат необходим. Наверное, есть вещи, которые не надо переступать. Показывать настоящие убийства, например. Безусловно, должны быть рамки. Но любая культура, наука — это все-таки вызов. То, что всегда обновляется. Замечательное русское искусство во многом неотделимо от русского авангарда, который много кому не нравился. Рамки ограничивают развитие. Об огромном количестве явлений в нашем искусстве говорили с неприязнью. Оно приходило с молодыми, оно развивалось. Поэтому цензура опасна: она ведет к стагнации. Посмотрите на советское время: Шемякин, Бродский. Это те люди, которые могли бы остаться в стране и преподавать. Содействовать развитию молодых поколений.
И кто судьи? Как вы будете оценивать художественное произведение? Вот роман «Лолита» кто будет оценивать? Придет угрюмая бабка в шапке, сядет и будет говорить, что это нехорошо. Сейчас каждый второй разбирается в искусстве кинематографии. Пишет письма и доносы. Поэтому мне кажется, что пронзительность русского искусства очень часто шла рука об руку с его неформатностью. В конце концов, вы же понимаете, что и на Льва Николаевича Толстого тоже анонимки писали — о том, какой он плохой. Самое опасное, что есть такой спекулятивный прием: «Вы хотите, чтобы маленьких детей голыми показывали?». Никто не хочет, потому что есть уголовный кодекс. Всё вне уголовного кодекса и законов РФ имеет место быть, как мне кажется. Другое дело, что у нас половина депутатов мою внутреннюю цензуру не проходит. Ну а что делать?










