Жительница Ленинграда Кира Недзвецкая застала Великую Отечественную войну 14-летней школьницей. Летом 1941 году девушку вывезли из Ленинграда в интернат под Елабугой, куда эвакуировали детей журналистов и писателей. Родители Киры остались в Ленинграде.
В эвакуации Недзвецкая вела дневник, в котором подробно описывала происходящее. Она пережила эвакуацию и в 1944 году вернулась в Ленинград. Дальнейшая судьба Киры и ее семьи, а также личности ее родителей пока неизвестны — музейные работники сейчас пытаются это выяснить.
Смерть отца в блокадном городе, мечты о взрослой жизни и празднование шестнадцатилетия — «Бумага» публикует отрывки из дневника, расшифрованные на встрече проекта «Прожито». Копия дневника была передана в фонд будущего музея обороны и блокады Ленинграда как часть семейного архива ленинградской журналистки Анны Мойжес, работавшей с детьми в интернате под Елабугой.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены
Воспоминания о матери и мечты о будущем
«Этот день сделал несчастным еще одного человека. Да и полно, одного ли? Сегодня Миля Рудовая (одна из воспитанниц интерната — прим. «Бумаги») получила письмо. Она прочла его, побледнела, дошла до постели и рухнула. По ее слезам и крикам «мама, мамочка моя» можно была догадаться о печальной истине.
Ее состояние невозможно описать. Никто не мог ее утешить. Невозможно было смотреть на нее. Все плакали, даже я, [хотя] меня здесь считают образцом выдержанности, пустила слезу. На минуту я представила себя на ее месте. Что бы если бы мне пришло такое письмо? Нет, я не могу его получить. Наша мама должна жить, и будет жить. Я не хочу, не могу себе представить, чтобы с ней что-нибудь случилось. О, мамочка, родная мама!»
1942 год, точная дата неизвестна
«Работа! Какой ужас эта работа на поле или огороде — прополка, посадка или окучивание. После работы домой приходишь такая усталая, что некогда и письмо написать, а не только описывать события дня в дневнике.
Но теперь я свободна и могу писать хоть каждый день. Конечно я свободна только относительно полевых работ, мне придется работать дома на кухне, но что это по сравнению с полем! Все это вышло благодаря моим легким (Киру перевели на работу по дому из-за недомоганий — прим. «Бумаги»). Теперь я могу писать дневник, заниматься английским, обвязывать платочки!
Сначала мы, то есть я, Ира, Надя, Лора, Катя (другие воспитанницы интерната — прим. «Бумаги»), собрались идти в педтехникум, хотя меня это не прельщало. Вчера Лариса Львовна (работница интерната; в нем работали эвакуированные сотрудники ленинградского Дома журналиста — прим. «Бумаги»), Лора и Катя начали даже узнавать, как там всё. Они вернулись очень довольные. Оказывается Лариса Львовна выхлопотала им разрешение не в техникум, а прямо в пединститут, куда принимают после 9 класса. Институт 2-х годичный, значит через 2 года они будет учителями семилетки. А мы? Нам надо проучиться 3 года в техникуме, 2 года в институте и после этого быть учительницей.
Я сразу разочаровалась. Неужели я буду учительницей? Боже, какой ужас! Я то надеялась поездить по большим городам, посмотреть на блеск и величие богатства и может быть не только посмотреть… А теперь? Рушатся все мои надежды, мои радужные мечты….. Я буду посредственной учительницей, всю жизнь провожусь с ребятами, ничего не увижу не успею испытаю. Какая тоска!
Как я не хочу быть учительницей, я лучше пойду в 8 класс, а когда приеду в город, пойду учиться на машинистку, как мама, закончу среднюю школу, выучусь на переводчицу, а там…. Там посмотрим еще, что будет дальше!»
24 июня 1942 года

«Из Елабуги пришли 2 мальчика. Они рассказывали о своем интернате, жаловались на то, что плохо кормят. Когда им дали наш ужин — 3 куска хлеба с творогом, и еще суп, оставшийся от обеда, они решили, что их хотят закормить; и они действительно объелись; ночью одному из них стало худо. Они у нас проболтались целый следующий день, видно им понравилось».
27 июня 1942 года
«Все приезжают и приезжают мамаши, сестры, мужья к педагогам. Недавно мы подсчитали, что у 90 человек из всех 170 интернатных есть родители.
Сегодня утром я просыпала соль и решила, что с кем-нибудь должно поссориться. Целый день я набивалась на ссору, задевала всех, ехидничала на каждом шагу, так что девочки даже удивились, что это я стала такой ядовитой, но так ни с кем серьезно не поссорилась. За это я подралась со Светкой, и во второй раз на меня налетели трое — Вера, Светка и Иришка. Они навалились на меня и хотели связать мне ноги. Я брыкалась, царапалась и в конце-концов разогнала их и освободилась. Результаты боя: у Иришки в голове не хватает клока волос, у Светки расцарапана рука, а у меня обломан мой самый длинный ноготь и покурочен палец на левой ноге».
28 июня 1942 года
Годовщина эвакуации и смерть отца
«Какое гадкое противное настроение у меня сегодня — так хочется поругаться, сорвать на ком-нибудь свою злость. Да и понятно, сегодня — 3 июля. В прошлом году в этот день уже все было собрано, сложено. В этот день я прощалась с городом, со всеми знакомыми. Как же может быть хорошее настроение, когда все это стоит перед глазами. Как же может быть хорошее настроение, когда знаешь, что Ленинград разрушен, и многих друзей уже, может быть, нет в живых?
А следующий день? Как тяжело было 4 июля, в тот день, когда мы уезжали. Утром, перед уходом на работу, папа попрощался с нами, поцеловал в последний раз. Бедный милый папочка! В тот день мы навсегда попрощались с тобою. Ты умер в родном Ленинграде, в страшном, осажденном городе. Нет тебя, и никогда больше не будет. А мама? Как тяжело было прощаться с мамочкой, когда знали, что расстаемся с ней надолго. Мама не велела плакать, и сама старалась сдерживаться, но разве можно было удержать слезы, когда поезд тронулся, и ее лицо мелькнуло в последний раз? Разве можно не плакать, вспоминая это? И вот завтра год с того ужасного дня.
Завтрашний день — годовщину интерната – отмечают, у нас будет что-то вроде праздника. Тяжело справлять такой праздник.
Что-то давно нет писем от мамочки. Что с ней, как то она живет там, совсем, совсем одна, ведь теперь даже Вовочки (брат Киры, скончавшийся в Ленинграде — прим. «Бумаги») нет. Хоть и тяжело ей приходилось с ним, а все же хоть какое-то утешение. Боже, скорей бы кончилась война, мы бы поехали в Ленинград к маме, чтобы больше уже никогда не расставаться».
3 июля 1942 года
«Что можно увидеть в комнате старших девочек утром после праздника? На полу, на столе, на кроватях разбросаны цветы, обрывки венков. Висят или валяются нарядные „креп’овые“ платья. Под кроватями книги, остатки костюмов, рядом с грязной банкой раскрытый утюг и корки хлеба. Тут же просыпан сахарный песок, над ним кружатся мухи. А сами девочки спят сном младенцев.
Меня Лариса Львовна разбудила идти слушать сводку. Сначала я сказала ей, что сегодня не моя очередь потом, что у меня нет калош и идет дождь, потом просто сказала, что не пойду и поругалась с ней, но в конце-концов пошла. Плохая сегодня сводка: наших войска отступили на Курском направлении, на остальных участках фронта ожесточенные бои.
Но возвращаюсь к вчерашнему празднику. Собственно говоря, это был не праздник, просто отмечали годовщину интерната. С утра у меня было плохое настроение. Все готовились, наглаживали платья, платочки, мне нечего было готовить. Ничего нет, что же гладить? За завтраком мы отметили одну особенность: дети интерната в буквальном смысле слова в простых часто даже нечистых платьях, а дети, имеющие мамаш (предположительно, речь идет о детях, к которым родители позже присоединились в эвакуации — прим. «Бумаги»), разодеты в шелка и бархат. Какая разница!
<…> Зачитали список премированных стахановцев и отличников. Мы обе с Элюнькой (младшая сестра Киры — прим. «Бумаги») оказались премированными: она — вязанной кофточкой, я шерстяной юбкой. Этими юбками нас премировали еще к 1 мая, но не сшили их, теперь ими же премировали вторично, и можно надеятся, что к Новому году мы их получим.
[На празднике] всем детям выдали по прянику и конфете, а взрослые ушли на кухню „на чашку чая“. Начались танцы. Я недолго была на них, танцевать было не с кем, мальчишки буянили, я ушла.
Я вообще мало бываю на танцах, не потому что я не люблю или не умею танцевать, просто мальчишки не танцуют со мной. Странно: вот над Люськой, например, они издеваются, а на танцы всегда приглашают, а со мной они играют в шахматы, уважают меня, но танцевать не зовут.
Может быть они считают меня слишком серьезной? Остается танцевать с девочками 7 класса (наши все заняты) или сидеть у стенки и смотреть на других. Я этого не люблю, и предпочитаю идти спать, тем более что в кровати можно подумать, помечтать о многом. Почему то чаще всего я представляю себя блестящей царицей бала, окруженной поклонниками, веселье, великолепие, множество цветов. Может быть потому что мне здесь не приходится танцевать?
Вчера получила я письмо от мамы. Бедная мамуля, каково то ей совсем одной быть в таком большом городе. Если бы здесь только можно было бы устроиться на работу, тогда я бы писала ей, чтобы она немедленно выезжала, но ведь работать в колхозе она не может, да и, по правде говоря, жаль расставаться с Ленинградом. Если мама сюда приедет, то обратно нам уже будет не вернуться. Хорошо, что их там стали лучше кормить, вообще в городе стало лучше».
5 июля 1942 года
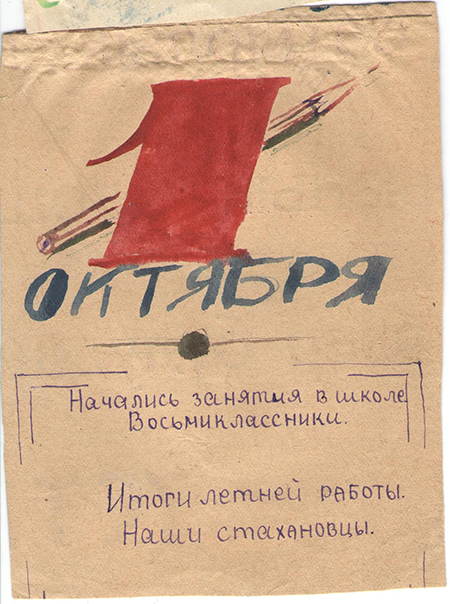
«Сегодня прочла в газете статью „Варвары“. В ней описаны зверства немцев-захватчиков. Против обыкновения, эта статья потрясла меня. Долго еще стояла перед моими глазами картина сжигания мальчика, и страшный вид матери рвущейся к нему. Мне невольно подумалось, что бы сделала я, будь я там в ту минуту, что бы вообще я сделала, если бы я была на фронте <…> Скорее бы кончилась война! Вот только чего я действительно искренне желаю».
9 июля 1942 года
Работы в интернате и письма от матери
«Что-то долго нет писем от мамы. Правда, не так давно был от нее перевод. Я теперь богата. У меня 500 руб. и я трачу их как попало. Впрочем нет не как попало, конечно, но все-таки слишком шикарно, каждый день трачу на ягоды и молоко по 16 рублей. Иногда я задумываюсь, на долго ли хватит моего капитала, что потом думаю, надо покупать все пока возможно».
12 июля 1942 года
«Девочки теперь уходят на работу рано утром. Их будят задолго до пробудки. Мне можно было бы полежать и понежиться в постели еще часок, но я не могу. Мне неудобно перед девочками, которые идут на работу, и я встаю вместе со всеми.
Вчера в лесу зашел разговор о том, что у некоторых ребят нет родных. Я отозвала в сторонку Эльку, и сказала ей, что и у нас нет папочки. Она заплакала, но плакала, как я и ожидала, не долго. Время и разлука сгладили тяжесть потери; Мы уже привыкли жить одни, и потому смерть его не чувствуется так остро».
15 июля 1942 года

«Сегодня рождение Элюньки. Ей исполнилось 9 лет. Подумать только, такая большая стала наша крошка. Я готовила ей подарок, вышивала апликацией коврик, хотела кончить к сегодняшнему дню, но так и не успела. Пришлось подарить недоконченный коврик и мисочку клубники — виктории.
Девочки посостоятельнее (те, которые имеют мам) сделали ей небольшие подарки. Аня Кауфман подарила иголку, (это очень ценный подарок в наше время). Лена Подволоцкая тоже иголку, головку клоуна, два пряника и кренделек домашнего изготовления. Анна Лазаревна (Анна Мойжес — известная ленинградская журналистка, дневник Киры был обнаружен в ее архиве и передан в «Центр выставочных и музейных проектов» для экспозиции в будущем музее блокады — прим. «Бумаги») дала ей два пряника и две канарейки. Она, конечно, как добрая сестренка, угостила меня. Но лучшими подарками были две картонных куклы из игры „Одень Люсю“, которых мама прислала в письме. Как она обрадовалась, малышка, когда я сказала от кого они.
Какая страшная, изнуряющая жара стоит у нас вот уже несколько дней. Бедные девочки, работающие на поле. Они приходят домой такие измученные, они так устают, что даже не ходят купаться, а все свободное время лежат. Что по сравнению с их работой подмести комнату или почистить картошку. Мне совестно глядеть им в глаза, когда они приходят с поля. Такой бездельницей, таким лодырем я чувствую себя в это время. Слава богу, что я освобождена от полевых работ».
16 июля 1942 года
«Сегодня девочек послали на сбор черной смородины. Мне и хотелось, и не хотелось идти с ними. Хотелось понятно почему: можно в волю поесть ягод, но было не удобно перед девочками; они бы сказали или подумали, на свеклу или картошку не ходишь, а на ягоды с удовольствием. Мне и так уже стыдно смотреть на них, когда они приходят усталые и измученные с поля.
<…> Стоит страшная жара. Днем невозможно сидеть в комнате: душно и кусаются мухи. Ночь еще хуже дня. Духота, комары и клопы не дают заснуть. Вчерашней ночью комары и клопы просто озверели. Они набросились на нас, так что мы вынуждены были бежать. Захватив матрасы простыни и подушки мы переселились в швейную, бывшую комнату старших мальчиков. Там было прохладно, комаров и клопов не было. Мы улеглись прямо на пол и моментально уснули.
<…> В воскресение у нас устраивается грандиозный клопиный погром. Мы с вещами переедем в швейную дня на два, а комнату зальем керосином, засыплем перетрумом, но если и после этого не выведутся клопы, тогда просто не знаю, что мы будем делать.
Мама сообщила мне адрес тети Нины. Я хотела написать ей, и даже начала письмо,но кончить не смогла. О чем писать? Что ее может интересовать? Ведь в городе мы были далеки от нее, как чужие. Становится грустно. Единственную родную тетю, я считаю почти чужой. А как наши девочки Лиля, Инка писали тетям — они находили темы, писали, а я не могу. Я бы, кажется, меньше затруднялась, если бы пришлось написать письмо нашей соседке тете Тасе, она всегда была гораздо ближе к нам.
<…> Делать нечего, читать тоже нечего. Я буду много, много думать и мечтать. О эти одиночные думы, бесконечные, несбыточные мечты! Как тяжело от них делается на душе. Тамара (одна из воспитанниц интерната — прим. «Бумаги») думает что я сильный человек, что у меня есть воля. Когда я узнала, что умер папа, я никому не сказала об этом, я никому не показывала, как мне тяжело и только иногда плакала по ночам. Она узнала об этом только на комитете комсомола, перед моим вступлением, когда я рассказывала свою биографию. Потом, когда умер маленький Вовочка , я опять не сказала никому. Зачем? Ведь все равно, не помогут. Из этого то и вывела Тамара, свое заключение. А я думаю, что не достаточная воля у меня. Если бы она была, разве же могла бы я избавится от этих дум, разве не могла бы забыть волнующие мечты?»
18 июля 1942 года
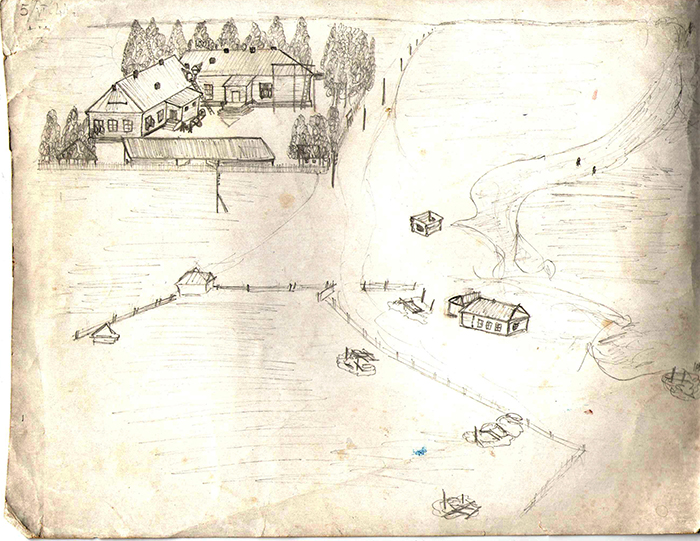
Празднование 16-летия и танцы
«Живем мы теперь как настоящие беженцы, так говорят все заходящие к нам. Спим на полу, кругом все набросано, накидано. Выжили-таки нас клопы из нашей комнаты. Мы эвакуировались в комнату старших мальчиков, где теперь швейная мастерская. <…> Вчера мы целый день провозились с клопами, а вечером, несмотря на то, что у всех болели головы от ядовитых испарений перетрума и керосина, мы устроили танцы. Я пошла на танцы, и, против обыкновения, совсем не сидела на месте, а все время танцевала».
20 июля 1942 года
«Вот и еще месяц, тринадцатый месяц войны. Жестоко бьются наши, а немцы все идут вперед. Заняли Ворошиловград (Луганск — прим. «Бумаги»), подбираются к Ростову, дерутся под Воронежом. Войне не видно конца. Когда мы поедем домой — неизвестно. Но я все-таки хочу думать, что следующим летом мы поедем домой, что свое семнадцатилетие я справлю в Ленинграде. Подумать только, через [месяц] мне будет 16 лет».
22 июля 1942 года
«Целый месяц не брала я в руки своего дневника. За это время много чего случилось, и так как всего описать нет возможности, то опишу вкратце самое важное это день наших рождений. У нас в интернате есть хороший обычай отмечать 16-летия ребят. В августе 4 исполняется 16 лет и одной 17. Мы все объединили наши дни рождения и справили их со всей пышностью, которая только возможна в это время. Клавдия Андреевна сделала всем нам подарки: девочкам — по паре чулок, куску туалетного мыла и флакону духов, мальчикам — по паре белья. Валентина Викторовна, представитель кухни, испекла нам сдобные подарки. Наде — балерину, мне — санитарную сумку с красным крестом и другое в этом роде.
После ужина мы устроили танцы, а когда ушли воспитатели, то стали играть в „бутылочку“ и „голубков“, одним словом в игры с поцелуями. Все ребята смущались, и только делали вид, что целовались, а если зрители очень настаивали, то целовали друг друга в лоб или в руку. Я впервые принимала участие в этой игре. В общем было весело, и мы все остались довольны своим праздником».
18 августа 1942 года